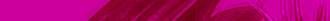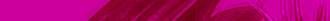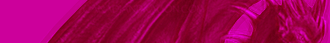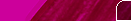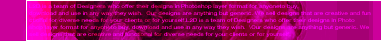Избавляющая неизбежность
Июн 10, 2011
0
479
Выставка «Бестелесное» известной белорусской художницы Людмилы Русовой, приуроченная ко дню ее рождения, обнажает ряд проблем в белорусском искусстве и его публичной презентации.

Несмотря на богатство форматов репрезентации и их доступность для белорусских музеев, для выставки был выбран самый скучный и наименее трудоемкий вариант. Это действительно просто: развесить по стенам картины и гобелены, а об остальном смогут рассказать пришедшие к открытию друзья и коллеги художницы. Музей как выставочная площадка был и остается олицетворением устойчивости и стабильности, но наши музеи, не реагирующие на современные механизмы репрезентации, наводят на мысль о стабильности эпохи застоя.
Проект получился неудачным, и не потому, что был выбран такой акцент («Бестелесное»). Просто для репрезентации творчества именно этой художницы требуется уникальный язык экспозиции. Представленные картины на современного зрителя воздействуют минимально. Если на этом месте была бы большая выставка, тогда можно было бы трактовать ее как квинтэссенцию всего творчества автора. Выставка же демонстрирует лишь маленькую часть из наследия Русовой.
Открытие было тихим. Кураторы и искусствоведы, подходя к микрофону, чеканили: «Перформанс, перформанс» (Русова известна и как автор первого перформанса на территории Беларуси). Кто мешает устроить большую выставку художницы, включив туда фото- и видеодокументацию перформансов? Почему не объединить на одной выставке все виды искусства, с которыми Русова соприкасалась на протяжении своей творческой жизни?

Словенский критик и теоретик современного искусства Игорь Забел говорит о трех концепциях тела, характерных для восточноевропейского искусства. Согласно первой концепции, «тело выражает стремление высвободиться из-под власти норм общения и традиционных ограничений». Вторая представляет тело как «объект самоагрессии». Третий подход «привлекает ритуалы, телесные практики и дисциплинирование». Все три подхода «раскрывают аспект взаимозависимости телесного и умственного». Возможно, делая ставку на иные акценты творчества художницы, следовало подумать, в какую из этих концепций может быть вписана роль тела в перформансах Русовой.
Практика показывает, что творчество художника, не подвергнутое теоретическому описанию, без точно определенного и устойчивого места в историческом контексте, может быть попросту забыто. Выставка — это и научная часть, призванная в том числе расшифровывать значение работ художника для настоящего времени. Без осмысления творчества остается лишь тень мастеров, какими бы талантливыми они не были. Важны не только слова, нужна демонстрация документации художественных практик, нужны осмысленные действия.
Конечно, для провинциального маленького городка то, что получилось, вполне допустимо. Но для Минска и Музея современного изобразительного искусства это непростительно. Музей переводит творчество художницы в разряд интереса для определенной социопрофессиональной группы, а не в объект гордости всей нации. Так можно было организовать квартирную выставку. К чему церемонии?

Просматривая проект, остается непонятным, кто мог быть главным учителем художницы. Считать ее продолжателем разработанных Казимиром Малевичем или Ивом Кляйном идей и подходов — невозможно, да и не нужно. Она сумела преодолеть гравитацию учителя, нашла свою собственную проблематику.
Русову, как самого яркого представителя белорусского авангарда, легко противопоставить многим белорусским современным авторам, встроенным в нишу госзаказов, проповедникам декоративности на национальной основе. Ее гобелены — подтверждение этому: «Крест. Возвращение знака», «Сдвиг квадрата. Спираль причин», «Провал. Избавляющая неизбежность». Да, такие проекты для белорусских зрителей несут мало позитивного. Но Русова всегда выходила за границы предписанных установок, существующих в рамках советской художественной системы. Сегодня же в белорусском искусстве художников подобного масштаба просто нет.
Источник: www.belgazeta.by
Фотографии: Алексей Иванов
_______
Читать по теме:
_______