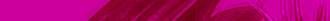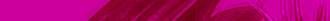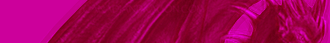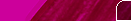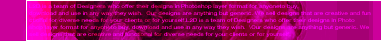Джотто и Диана
 Музей с легкостью может превратиться в мавзолей, если его посещают люди, не знающие цену жизни, природы, пульса вселенной, революционных идей. Конечно, содержание и богатство музея определяют его экспонаты. Однако, ''жизнь в настоящем'' этого учреждения, охраняющего, экспонирующего и изучающего исторические, психологические, этнографические, художественные ценности, в огромной мере зависит от того, какая зрительская ''масса'' интересуется экспозицией. Немногие музеи сегодня содержат такой жизненно необходимый заряд и настолько созвучны своему времени, как московский политехнический музей в 1910, 1920-ые годы. И это не благодаря его экспонатам, а благодаря Владимиру Маяковскому и другим романтикам, которые посещали музей, делились идеями, распространяя их. Богатство искусства зависит от богатства человека, его духовного пространства. Перед человеком случайным, не излучающим духовной красоты, светозарное чудо Ван Гога может погаснуть, и, напротив, под взглядом лучезарной личности может засиять потухшее и неприметное произведение. К счастью, ереванский музей Джотто Григоряна, еще в бытность его мастерской художника, привлекал необычных посетителей.
Музей с легкостью может превратиться в мавзолей, если его посещают люди, не знающие цену жизни, природы, пульса вселенной, революционных идей. Конечно, содержание и богатство музея определяют его экспонаты. Однако, ''жизнь в настоящем'' этого учреждения, охраняющего, экспонирующего и изучающего исторические, психологические, этнографические, художественные ценности, в огромной мере зависит от того, какая зрительская ''масса'' интересуется экспозицией. Немногие музеи сегодня содержат такой жизненно необходимый заряд и настолько созвучны своему времени, как московский политехнический музей в 1910, 1920-ые годы. И это не благодаря его экспонатам, а благодаря Владимиру Маяковскому и другим романтикам, которые посещали музей, делились идеями, распространяя их. Богатство искусства зависит от богатства человека, его духовного пространства. Перед человеком случайным, не излучающим духовной красоты, светозарное чудо Ван Гога может погаснуть, и, напротив, под взглядом лучезарной личности может засиять потухшее и неприметное произведение. К счастью, ереванский музей Джотто Григоряна, еще в бытность его мастерской художника, привлекал необычных посетителей.
Джотто Григорян в армянской культуре эпохи независимости занимает скромное место. Но будет несправедливо утверждать, что имя его забыто. ''Один из величайших романов нашего времени'', как сказано в одной книге, редкий по своей гармоничности союз Джотто – Дианы Уклеба пока что остается интересным явлением. И сейчас, во времена, которые позволяют желать лучшего, по соседству с Ереванской Академией художеств, в музее Геворга Григоряна, находящемся на проспекте Маштоца, в доме номер 45, мерцают маленькие картины, пульсируют, перешептываются или интригующе молчат. Хотим мы этого, или нет, но они стали сгустком времени, а также свидетельством особого художественного восприятия эпохи.
 Исследователи искусства хорошо знают автора маленьких, но интересных полотен 1920-ых годов мастера Джотто Григоряна. Но немногие знают, что при всей своей скромности был он весьма своенравен, и без шума и гама, иногда буквально, иногда иносказательно представлял осажденного, блокированного, отчаявшегося человека, грезящего о свободе. Джотто был честнейшим художником Советской страны, в ''невзрачном'' зеркале которого отражался истинный профиль действительности.
Исследователи искусства хорошо знают автора маленьких, но интересных полотен 1920-ых годов мастера Джотто Григоряна. Но немногие знают, что при всей своей скромности был он весьма своенравен, и без шума и гама, иногда буквально, иногда иносказательно представлял осажденного, блокированного, отчаявшегося человека, грезящего о свободе. Джотто был честнейшим художником Советской страны, в ''невзрачном'' зеркале которого отражался истинный профиль действительности.
Благодаря этому свойству, а также человечности, (которая среди эстетических категорий не существует и в жизни не особенно ценится) перед его картинами хотя бы на мгновение самые светлые и свободолюбивые личности того времени задумывались о чистоте, красоте и свободе.
У Григоряна нет чисто технических достижений. Его художественные разработки в области линии, объема, плоскости довольно скромны. Цвет, как выразительное средство, как гармония, кроме натюрмортов 1920-ых годов, напоминающих Сезанна, и абстрактных картин 1960-ых, в его многочисленных композициях особой роли не играет. Московская учительница Джотто - Любовь Попова, художница, посещавшая парижскую мастерскую Меценже, особо относилась к композициям, состоящим из геометрических форм, и сама создавала сдержанные и красивые кубистические построения, основанные на цветовом контрасте. Другим ''учителем'' Джотто, конечно, не в прямом смысле, был Нико Пиросманишвили – душа тифлисской народной жизни с ее особым миром. Вернее Нико реял над этим миром как поэтический дух. Если в Москве Джотто-Григорян творил под влиянием прославленного Джотто Италии или в манере кубизма Сезанна, то в Тифлисе он бродил и блуждал между новейшей европейской культурой, тифлисской богемой и Нико Пиросманишвили. Кубизм, основанный на четко разработанной профессиональной линии, особо обыгранных объемах и понятиях, несовместим с обращенным всецело к духовной красоте и свободе искусством художников-самоучек, совершенно не обращающих внимания на профессиональный арсенал. Джотто, не пренебрегал вековым профессиональным богатством, но, отдавшись свободе, ставил превыше всего человечность. По этой причине он, иногда, не то что нарушал, но намеренно забывал заученные каноны.
 И при таких ''скромных'' возможностях этот человек в 1927 году создал композицию ''На смерть вождя'', которая стала маленькой знаковой конструкцией и творением, отражавшим слои подсознания, содержащие раздвоенность и терзания индивидуума того времени. Нет в этой картине никакого вождя, а только три озабоченных лица, нарисованных крупным планом. И в то же время присутствует здесь туманная идея потери предводителя, конечно, если ее захочет увидеть зритель.
И при таких ''скромных'' возможностях этот человек в 1927 году создал композицию ''На смерть вождя'', которая стала маленькой знаковой конструкцией и творением, отражавшим слои подсознания, содержащие раздвоенность и терзания индивидуума того времени. Нет в этой картине никакого вождя, а только три озабоченных лица, нарисованных крупным планом. И в то же время присутствует здесь туманная идея потери предводителя, конечно, если ее захочет увидеть зритель.
Не случайно от внимания искусствоведов не ускользает это полотно, имеющее размеры всего 40 х 45 см. Такое произведение не смогли создать известные мастера с прекрасными профессиональными навыками, владеющие тайнами колорита, линейных и объемных построений, и официально представляющие на своих претенциозных полотнах прославленного вождя революции так реалистично, словно он позировал им. Искренность и непосредственность Геворга Григоряна для культуры тоталитарного режима кажется редкостью. Можно на пальцах пересчитать тех художников и скульпторов Советской империи, которые, не прибегая к непосредственному изображению предмета, смогли обрисовать его сущность. Джотто Григорян в 1920 – 1940 годах, не изображая Кремль и его ''великого инквизитора'', посредством натюрмортов и портретов выразил свое отношение к мрачному времени. Почти все картины Геворга Григоряна сталинской эпохи имеют темный колорит, притом, что журнал ''Искусство'' тех лет почти в каждом номере отмечал, что темные краски не соответствуют светлому настроению советского человека. Темный колорит расценивался как преступление, за которое пришлось ответить многим живописцам.
Большинство натюрмортов пробуждает грустные настроения. Чрезвычайно холодный свет, кем-то регулируемый и ограничиваемый, слегка поблескивает на поверхности яблок, нарисованных в 1944 году. Также многочисленные григоряновские портреты обрисовывают личностей надломленных, словно оказавшихся за колючей проволокой. Эти психологические портреты вместе с натюрмортами представляют, пожалуй, некое закрытое пространство, зону, где, кажется, время остановилось, и воцарился вечный покой. К счастью, подобное, хорошо известное пространство, художник показывает не буквально. Достаточно особого колорита, чтобы зритель, помимо эстетической конструкции натюрмортов и портретов ощутил в них духовную атмосферу искусно огражденного, регламентированного мира.
Андрей Сахаров в ереванской мастерской внимательно и в молчании рассматривал маленькие полотна художника, единственно, о чем спрашивая: ''В каком году написано?''
''Я начал знакомство с живописью Армении с этой мастерской и думаю, что в моих воспоминаниях впечатление от картин навсегда соединится с образом Армении.
Современная общественность не знает того Джотто, который в 1960 – 1970-ых годах находился в центре внимания ученых, деятелей культуры Советского Союза, и самых известных личностей, прибывающих в Ереван из-за рубежа. В 1910-ых годах его заметил Сергей Городецкий, а в 1920-ых - среди лучших советских художников его выделил обладающий высочайшим вкусом искусствовед Яков Тугенхольд.
В 1960 – 1970-ых годах в Ереване, по крайней мере, тридцать художников и скульпторов своими поисками в области формы могли удовлетворить строгие вкусы гостей армянской столицы. Но в богатом художниками Ереване вы не нашли бы ни одной мастерской, кроме мастерской Джотто, в которой люди испытывали бы подобное смятение от избытка нахлынувших чувств. Читающему обществу известны те интересные посвящения Джотто, которые изданы Кириллом Зданевичем, Ладо Гудиашвили, Михаилом Дудиным, Александром Дымшицем, Людмилой Моталовой, Геворгом Эмином.
 В книге отзывов Леонид Енгибаров, кинорежиссер Александр Зархин, актриса Элина Быстрицкая, философ Арсений Гулига, социолог Кон, театровед Георгий Бояджев, психолог Александр Луриа, литературоведы Юрий Лотман и Борис Мейлах, академик Николай Ениколопян, поэт Евгений Евтушенко, многие известные ученые, писатели, художники, музыканты, архитекторы искали и часто не находили слов, которыми могли бы выразить свое восхищение человеком, который при самых тяжелых условиях ни за какие серебреники не продал не только свою совесть и убеждения, но даже какую-нибудь маленькую картину.
В книге отзывов Леонид Енгибаров, кинорежиссер Александр Зархин, актриса Элина Быстрицкая, философ Арсений Гулига, социолог Кон, театровед Георгий Бояджев, психолог Александр Луриа, литературоведы Юрий Лотман и Борис Мейлах, академик Николай Ениколопян, поэт Евгений Евтушенко, многие известные ученые, писатели, художники, музыканты, архитекторы искали и часто не находили слов, которыми могли бы выразить свое восхищение человеком, который при самых тяжелых условиях ни за какие серебреники не продал не только свою совесть и убеждения, но даже какую-нибудь маленькую картину.
''Григорян годами упрямо следуя за средневековым примитивизмом, так вульгаризирует и уродует лица живых людей, что зритель, иногда может подумать, что попал в мир чудовищ, которые существуют только в старых сказках''. Так писала о нем издаваемая в Тифлисе в 1936 г. газета ''Пролетарий''. Когда в 1971 году в Москве в доме культуры Института атомной энергии им. Курчатова открылась персональная выставка произведений Геворга Григоряна, Союз художников СССР недалеко ушел от официальной эстетики 1930-ых годов. Иначе, следуя просьбам многочисленных деятелей культуры, в том числе Мариетты Шагинян, союз художников открыл бы выставку Геворга Григоряна намного раньше и в более светлом и подходящем для этого зале, чем дом культуры ученых. Но этой экспозиции оказалось достаточно, чтобы не только ученые столицы страны, но и любители искусства, художники, писатели и журналисты познакомились с холстами художника, совершенно незнакомого и не потерявшего своего лица в советской стране тех лет.
При этом многие художники с трудом мирились со своенравием Джотто.
Среди произведений 1930-ых годов есть одно полотно, выполненное маслом, которое называется ''раненый рабочий''. Джотто написал его в 1934 году. В эти кошмарные годы, когда все прославляли стальную выносливость работающего у станка рабочего или согласно общепринятому выражению ''большевистскую бодрость'' в Тифлисе, живущий впроголодь Джотто, осмелился изобразить раненого на заводе рабочего. Его поддерживают два бойких и здоровых человека, тип которых, кажется, повторяется во всяком обществе и во все века. Это напоминает анекдот, распространенный в советское время: идет по улице сюрреалист, а за ним следуют два реалиста в штатском.
 Раздумьям об искусстве и жизни Джотто мы обязаны, конечно, Диане Нестеровне Уклеба. Она оберегала и охраняла Джотто. Она, эта злато цветная кутаисская девушка, уловила в нищем Джотто, терпение и безграничную доброту Иова. Друзья Джотто, Ладо Гудиашвили, Ерванд Кочар, Давид Какабадзе не только побывали, но и жили в столице искусств последних двух столетий – Париже. А он, в основном, ограничился Тбилиси – Ереваном. Поэтому упомянутые художники любили Джотто какой-то ласковой любовью. ''Моего мудрого друга Джотто Бог наградил Дианой'', часто говорил Ладо Гудиашвили.
Раздумьям об искусстве и жизни Джотто мы обязаны, конечно, Диане Нестеровне Уклеба. Она оберегала и охраняла Джотто. Она, эта злато цветная кутаисская девушка, уловила в нищем Джотто, терпение и безграничную доброту Иова. Друзья Джотто, Ладо Гудиашвили, Ерванд Кочар, Давид Какабадзе не только побывали, но и жили в столице искусств последних двух столетий – Париже. А он, в основном, ограничился Тбилиси – Ереваном. Поэтому упомянутые художники любили Джотто какой-то ласковой любовью. ''Моего мудрого друга Джотто Бог наградил Дианой'', часто говорил Ладо Гудиашвили.
Когда в 1976 году Джотто не стало, Диана, некогда бывшая студенткой Тбилисской Академии художеств, снова взяла в руки кисть и первое, что нарисовала, было лицо Джотто. Она заговорила, в основном, языком линии, подобно своему земляку-имеретинцу Давиду Какабидзе. В грузинском искусстве линия имеет особое значение, и Диана оказалась продолжателем этой великолепной традиции.
Джотто и Диана изумлялись, когда встречались со злом: они видели горькие, суровые дни, и всегда сочувствовали знакомым и незнакомым людям. В своей маленькой квартире они жили в содружестве с Шота Руставели, Саят-Нова, Хафизом, Омаром Хаямом, Николаем Бараташвили, со всеми великими мировыми поэтами и, в особенности, с Нико Пиросманишвили. Поэтические произведения Дианы изданы на грузинском, русском, армянском языках в Кутаиси, Тбилиси, Ереване. Диана Уклеба – кавалер Ордена Чести Грузии.
Мартин Микаелян искусствовед